Лапченко Б.С. Дорога на Катин мох : экологические очерки, рассказы, художественные миниатюры. – М.: Моск. рабочий, 1990.
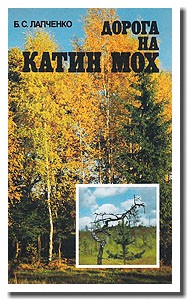
Дорога на Катин мох (отрывки из произведения)
«Человек пришёл на Землю
и научился видеть,
познавать и мыслить,
чтобы жизнь на Земле
продолжалась вечно,
чтобы не угас
во Вселенной луч
надежды и разума…
Люди, берегите Землю!»
Борис Лапченко
… В Стулове нас ждёт Орлов с «уазиком».
Ну, как? Здесь ночуете? Или всё-таки отвезти в Квашню?
Остаёмся.
Звук мотора затихает, и сразу надвигается, наваливается тишина. Только приглушенные, невнятные голоса дальнего леса да стрёкот кузнечиков в травах. Мы одни. Такое впечатление, что нигде, на тысячу вёрст вокруг, а может, и во всей Вселенной, ни живой души, ни человека. Лишь эти два покосившихся ветхих дома — свидетели того, что здесь когда-то жили люди.
Ну, вот мы и на необитаемой планете с остатками былой цивилизации, — шутит Анатолий, — Будем осваиваться.
По шаткому крыльцу без нижней ступеньки поднимаемся в сени нашего дома. Какие-то железки, болты, гайки в углу — следы, оставленные мелиораторами… В стекло уцелевшего окна панически бьётся оса. На полу — старое сено, мусор, ржавые консервные банки, битые стёкла, бутылки. Да-а-а!..
Осматриваемся основательнее. Чело русской печки выбито. Зато почти цела кирпичная «буржуйка» посреди избы, видимо, поставленная бывшими хозяевами для скорого тепла. В углу — самодельный буфет без стёкол с квадратными штофами, может быть, ещё петровских времён. Дощатый стол, изрядно расшатанный. И всё. Даже присесть не на что. Поистине робинзоны из большого, но теперь так далёкого мира.
Идём в соседнюю избу. Что там?
Ура! Вот это богатство! Спасибо хозяину, что жил здесь. Запаслив был и домовит. Сразу в сенях, разделяющих жилую и хозяйственную половины — целый клад. Чего только нет! Вилы, грабли, косы, топор, ещё достаточно острый, на крепком берёзовом топорище, самодельная, из старой пилы ножовка. Охотничьи, явно собственной работы хозяина, лыжи с палками, мётлы из прутьев, старый диван, ломаные стулья — как раз то, что нам надо…
Берём вилы, ножовку с топором. Насаживаем на лыжную палку метлу. Отправляемся в свой дом. За крыльцом, под старой черёмухой обнаруживаем помятое ведро, полное дождевой воды. Теперь можно и прибраться.
Вилами выгребаем свалявшееся, пыльное сено, обмакивая метлу в ведро, чтоб не пылила, подметаем пол. Затаскиваем диван. В доме у деда Сашки нашёлся и старый пружинный матрас. Кладём его прямо на пол. Теперь есть на чём сидеть и спать. Осталось чем-то заделать окна. Иначе ночью не дадут уснуть комары.
И тут выручает неожиданное наследство деда. В сарае у него, к нашей несказанной радости, находим куски старой полиэтиленовой плёнки, ржавые гвозди. Приколотить плёнку к окнам — уже не труд. Правда, в нашем доме обнаруживается ещё один весьма существенный изъян. Кирпичная труба развалилась и едва достаёт до крыши. Но и тут оказывается кстати дедова домовитость, чисто крестьянская скаредность, привычка даже прохудившуюся, сломанную вещь не выбрасывать — авось пригодится. На его подворье, в полуразвалившейся летней кухне, находим старые, дырявые чугуны. Из самого большого выбиваем остатки дна. Анатолий залезает на чердак, водружает чугун на трубу. Теперь искры не полетят под крышу, можно топить.
Засовываем в «буржуйку» клок сена, чтобы проверить тягу. Достаём из рюкзака спички, поджигаем сено. И снова — ура! Тяга прекрасная. А с печкой нам и чёрт не брат. Живи хоть до самой зимы. Крыша есть. Стены — тоже. Тепло — по желанию: дров не занимать. Продукты — в рюкзаках. Что ещё надо!
Пока Анатолий, раскроив плёнку и нащепав из старой доски лучинок, домовито постукивает топором, вставляет «стёкла», сажусь перед крыльцом на старый стул записать первые впечатления.
Басовито врываются в тишину слепни. Сквозь лёгкую облачную хмарь пригревает солнце. Камилла растянулась на дорожном песке. Греется, как заправская пляжница. Дальний шум леса наплывает сквозь полусонный хор кузнечиков. И снова меня охватывает чувство слияния с огромным, бесконечным миром Вселенной. Время словно остановилось. Некуда спешить. Незачем суетиться, кого-то опережать, на ходу расталкивать толпу. Покой и почти полное единение с природой.
Кажется, слышу, как медленно, по капле, время, уходя, созидает травы и деревья, как движется сок по стволам яблонь от корней к листьям, наливаясь, зреют яблоки и хлеба, как незримо, по атому разрушается дом, ржавеют в высокой траве огромные металлические фермы — конструкция какой-то брошенной машины. Словно и впрямь здесь некогда приземлился, потерпев аварию, инопланетный космический корабль, и мы — потомки пришельцев иного мира — вынуждены продолжить начатую ими жизнь.
Внезапная шальная мысль как бы обретает плоть. А сможет ли наш, избалованный благами цивилизации современный горожанин начать жить на таком вот почти пустом месте?
Ту, цивилизованную, современность, что осталась там, куда вернулся наш «уазик», отделяют от нас не просто сотни километров – пласты столетиями накопленного человеческого опыта…
… Вспоминаю слова Орлова: «Мужики здесь жили отчаянные. Коновалы и конокрады. В меня однажды стреляли. Пробили передок саней…» Что же за человек был дед Сашка — хозяин соседнего дома? Что за семья у него была? Почему не захотел никуда уезжать — ни к детям, ни к внукам, принял свой последний час здесь, в своём доме? Как жил? Что связывало его со здешней землёй?
На хозяйственной половине в беспорядке — кто-то переворошил или так было уже при хозяине — свалены по углам деревянные кадки, вентеря из ивовых прутьев, старинный самодельный чемодан из фанеры с узенькой крышкой-дверцей, позеленелый медный самовар, окучник, лемеха от сохи, какие-то запчасти от мопеда (неужели дед ездил сам?), битые кирпичи, плетёные корзины, остатки ткацкого станка, колодки для валенок и сапог… Он, видно, и сапоги тачал, и кузнечил. И печки клал, и столярным, бондарным, пимокатным ремеслом владел. Такие умелые на все руки люди прежде были в каждой деревне. В каждом селе — свой, знаменитый чем-то особенным мастер. Тот катанки делает — заглядение. Тот — самопрялки. Этот — утварь домашнюю. У того на доме наличники да очелья — других таких в округе не сыскать.
Вещи, сделанные руками мастера, больше всяких слов говорят о нём. И в этом отношении дед Сашка был, наверное, личностью незаурядной… умел делать всё, что требовалось ему в его нехитром быту. И так ли уж нехитрым был этот быт?.. Только ли пища телесная интересовала хозяина этого дома?
Открываем дверь в жилую половину. Ласточка, испуганно покружив по комнате, стремглав вылетает в разбитую форточку. В гнезде, под матицей, отчаянный писк птенцов. Кругом всё тот же ералаш. Печь полуразобрана. Стол, тоже самодельный. Ещё добротный, с ящиками, скреплёнными в шип, опрокинут. Крышка валяется отдельно. Стёкла почти во всех окнах выбиты и острым, колючим крошевом шуршат под ногами.
Дом, отжив своё, умирает без хозяина, медленно и невозвратно. Но сколько ещё в нём жизни — примет жилого! Буфет в простенке. Кровать у окна. Передник с вязаными оборками брошен на спинку. Лавки вдоль стен, тёсаные, устойчивые, на несколько поколений вперёд. Обе стены красного угла до самого потолка оклеены репродукциями из «Огонька». «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи. «Троице-Сергиевская лавра. Весна» Юона. «Вид на Кремль» Саврасова. «Сосновый бор. Мачтовый лес в Витебской губернии» Шишкина… Целая картинная галерея. Изумлённый, замечаю: многие картины в представлении хозяина, видимо, имели весьма определённое значение и содержание. «Чаепитие в Мытищах» и «Сельский крестный ход» Перова. «Кающаяся Магдалина» Тициана. «Введение Марии во храм» Чима де Канильяно.
Он, что же, был верующим, дед Сашка? Кто знает? На стене портрет Калинина. Журнальные снимки наших космонавтов. Календарь. Старые газеты на лавке…
…Писк птенцов напоминает нам, что мы вторглись в чужую жизнь и мешаем ей. Ласточка, видно, караулит где-то, ждёт, когда уйдём, и, как только выходим за дверь, крылатая «стрелка» сквозь разбитую форточку быстрым промельком устремляется в гнездо…
…Из дома ушла одна жизнь— пришла другая…
Тополь
Ночью за окном ветром оборвало провода. Они шли близ тополя, что, единственный, уцелел под окнами на строительной площадке. Небольшой, обгрызенный снизу, у основания ствола, бульдозерами, с вершиной, обломленной стрелой подъемного крана, он выжил. И когда строители ушли, а жильцы заселили дом, стал поправляться, залечивать раны, как покалеченный, но молодой, полный сил человек. Вместо обломанной вершины он, словно руки, выбросил вверх две мощные ветви. Каждое лето они становились толще, крепли, наливались силой и постепенно образовали два ствола.
Прошло время — тополь вконец оправился, вытянулся вверх, раскинул крону, стал большим и красивым.
По весне он первым на улице растрескивал почки, и нежные, чуть кремоватые листики острыми чешуйками вылезали из них, источая освежающий аромат.
Возле тополя, особенно после дождя, легко дышалось. И даже в жару, когда нещадно палило солнце, в тени под ним было прохладно и почти не чувствовалось духоты раскаленной асфальтной улицы, по которой мчались машины. Тополь как бы вбирал в себя жар и копоть, изрыгаемую автомобилями, и возвращал воздух освеженным, насыщенным невидимыми, летучими фитонцидами.
Но вот ночью поднялся ветер. Он раскачал тополь, и его разросшиеся ветви оборвали провода электролинии. Утром приехали монтеры из аварийной службы. Один из них достал ножовку и топор...
Провода снова натянули. В примолкших было квартирах зажглось электричество, засветились экраны телевизоров, загрохотали магнитофоны. А на месте тополя остался уродливый обрубок ствола с куце торчащими култышками ветвей.
— Ну вот. Теперь не мешает,— рубщик, довольный, осмотрел свою работу, бросил топор и ножовку в машину, крикнул шоферу: — Поехали!..
Чучело Змеи
В заповеднике меня познакомили с интересной молодой женщиной, таксидермистом — специалистом по изготовлению чучел животных и птиц.
Елена, назову ее так, в своей крохотной, на два оконца, мастерской со стеллажами, уставленными чучелами птиц и грызунов, с длинным, на манер верстака, рабочим столом, изготавливала чучело змеи. Было странно и немножко жутковато смотреть, как послушный движениям ее рук обыкновенный кусок проволоки, обернутый марлей, превращается в подобие пресмыкающегося.
Елена до конца запеленала стержень в бинт и стала надевать на него вывернутую наизнанку змеиную кожу-выползок. Что-то колдовское было в ее работе. Казалось, вот сейчас под ее руками змея оживет, с благодарностью за возвращенную жизнь посмотрит на Елену и уползет.
— Ну, вот и все,— Елена закончила работу.—Похожа?
— Очень.
– Это стержень из проволоки придает ей жесткость. А его изгиб — естественный вид... Все держится на стержне.
Елена, видимо сама того не замечая, сказала истину, полную глубокого смысла.
«Все держится на стержне...» И в человеке — тоже. Сколько людей, в душе у которых вместо стержня — вата. Они живут — двигаются, говорят, что-то делают. А на самом деле мертвы... |