Лирика Анны Ахматовой – неотъемлемая
часть нашей национальной культуры,
одна из живых и не утрачивающих свежести ветвей на древе великой русской поэзии
А. Твардовский
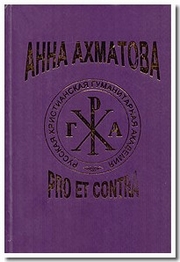 Анна Ахматова: pro et contra: антология:
в 2 т. / вступ. ст. Н. Н. Скатова; сост., коммент., послесловие С. А.
Коваленко.- СПб.: Рус. Христиан. гуманитар. акад., 2001 – 2005. – (Русский
путь).
Анна Ахматова: pro et contra: антология:
в 2 т. / вступ. ст. Н. Н. Скатова; сост., коммент., послесловие С. А.
Коваленко.- СПб.: Рус. Христиан. гуманитар. акад., 2001 – 2005. – (Русский
путь).
О стихах Анны Ахматовой говорить особенно трудно, и мы не боимся признаться в этом. Отметив их очаровательную интимность, их изысканную певучесть, хрупкую тонкость их как будто небрежной формы, мы все-таки ничего не скажем о том, что составляет их обаяние. Стихи Ахматовой очень просты, немногоречивы, в них поэтесса сознательно умалчивает о многом – едва ли не это составляет их главную прелесть.
В. Ходасевич
Трагизм и скрытое тайное величье своих стихов Ахматова, вероятно, чувствовала сама. Оттого она и «подвывала», читая их, что хотела сказать больше текста, - и только иногда, поняв невозможность этого, переходила на речь подчеркнуто сухую и трезвую, будто махнув рукой. Трагизм чувствовали и все, глядевшие на нее, - на этот ее необычайный облик, с открытыми, угловатыми плечами, неизменной «ложноклассической» шалью, влачащейся по полу, горькой складкой у рта и взглядом, так удивительно верно переданном в известном анненковском рисунке. Это было действительно «явление», которое врезывается в память навсегда.
Г. Адамович
Говорить о высоких достоинствах поэзии Анны Ахматовой не приходится. Ее поэзия давно оценена. Уже несколько десятилетий как Ахматова – эта былая «насмешница» и «царскосельская веселая грешница» - ушла от своей прежней главной темы – любовной лирики, став поэтом разных и больших тем: война, родина иль свобода, Россия, диалог с прошлым Серебряным веком. … От камерности – к всероссийскому голосу. К голосу ясному, всеми слышимому и по-пушкински в своей высокой простоте незримо сложному, что дается только большим поэтам.
Р. Гуль
В начале творческой жизни ее огромный музыкально-лирический
дар сказался главным образом в любовных стихах. Здесь власть ее лирики
была беспредельна. Молодежь двух или трех поколений влюблялась, так сказать,
под аккомпанемент стихотворений Ахматовой, находя в них воплощение своих
собственных чувств. …И всегда ее поэзия питалась, даже в первоначальных
стихах, чувством родины, болью о родине…
…О чем бы она ни писала, всегда в ее стихах ощущается упорная дума об исторических
судьбах страны, с которой она связана всеми корнями своего существа. Ей не
нужно было ничего забывать, ни от чего отрекаться, ей не приходилось преодолевать
в себе какие-нибудь закоренелые навыки, чтобы во время войны, в самое мрачное
время кровавого разгула врагов, создать с обычным своим лаконизмом бодрящие
и вдохновляющие строки:
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
К. Чуковский
Как и любовь, как и Россия, вера для нее - не «тема» и не «проблема», не что-то внешнее, о чем можно страдать, соглашаться, не соглашаться, раздумывать, мучиться. Это снова что-то очень простое, ее почти «бабья вера», которая всегда живет, всегда присутствует, но никогда не «отчуждается» в какую-то внешнюю проблему. Ни пафоса, ни громких слов, ни торжественных славословий, ни метафизических мучений. Эта вера светит изнутри и изнутри не столько указывает, сколько погружает все в какой-то таинственный смысл.
Прот. А. Шмеман
![]()
Виленкин В.
В сто первом зеркале / В. Виленкин. – 2-е изд., доп. – М.: Сов. писатель, 1990.
– 334 с.: ил.
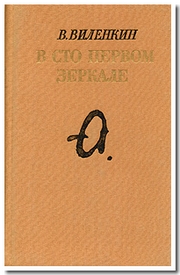
Видел я в архиве Анны Андреевны и листочки с набросанными карандашом схемами размеров – то анапеста, то амфибрахия. Все это в той или иной степени носит на себе следы работы поэта, иной раз, по-видимому, требовавшей неоднократных возвратов, работы мучительной, а то и приводившей в отчаяние (вспомним, как у нее это бывало: «Ушло, и его протянулись следы // К какому-то крайнему краю, // А я без него … умираю»). Знаки пропущенного – забытого или еще не найденного, еще не расслышанного, не «выловленного», как она говорила, из «гула», из «лепета», из того «тайного», что «бродит вокруг» и постоянно грозит «безмолвием сделаться снова», - все это не случайные, а почти постоянные атрибуты творческой мастерской Анны Ахматовой.
![]()
Гончарова Н. Г.
«Фаты либелей» Анны Ахматовой / Н. Г. Гончарова. – М.; СПб.: Летний сад: Рос.
гос. б-ка, 2000. – 680 с.: ил.
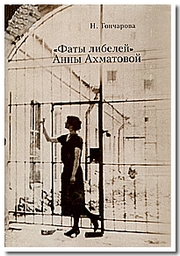 «Фаты либелей», «судьбы книг», оказываются глубоко значимы:
они рассказывают о том, как время и государство обошлось с поэтом, и
они же свидетельствуют, как бесконечно усталая, уже старая и больная
женщина мужественно продолжала свою почти безуспешную и почти никому
неизвестную борьбу за «пречистое слово» - за право предстать перед современниками
тем, кем она была, невзирая на навешиваемые ярлыки: великим русским гражданским
поэтом-философом, прошедшим тернистый путь «настоящего двадцатого века»
вместе со своим народом.
«Фаты либелей», «судьбы книг», оказываются глубоко значимы:
они рассказывают о том, как время и государство обошлось с поэтом, и
они же свидетельствуют, как бесконечно усталая, уже старая и больная
женщина мужественно продолжала свою почти безуспешную и почти никому
неизвестную борьбу за «пречистое слово» - за право предстать перед современниками
тем, кем она была, невзирая на навешиваемые ярлыки: великим русским гражданским
поэтом-философом, прошедшим тернистый путь «настоящего двадцатого века»
вместе со своим народом.
![]()
Казанцева А. А.
Анна Ахматова и Николай Гумилев: диалог двух поэтов / А. А. Казанцева.- СПб.:
Росток, 2004. – 336 с.
 Диалог Гумилева и Ахматовой, развернувшийся на страницах
их поэзии, раскрывает трагические картины жизни двух крупных русских
поэтов XX века. За декоративно-экзотической поэзией Гумилева и прозрачной
лирикой ранней Ахматовой, с неповторимыми разговорными интонациями и
непосредственностью чувств, скрывается мир переживаний сильных натур
– цельных, страдающих и преодолевающих препятствия. Поэтический мир каждого
демонстрирует индивидуальность и неповторимость личности, вступившей
в противоборство, из которого каждый, по-своему, вышел победителем.
Диалог Гумилева и Ахматовой, развернувшийся на страницах
их поэзии, раскрывает трагические картины жизни двух крупных русских
поэтов XX века. За декоративно-экзотической поэзией Гумилева и прозрачной
лирикой ранней Ахматовой, с неповторимыми разговорными интонациями и
непосредственностью чувств, скрывается мир переживаний сильных натур
– цельных, страдающих и преодолевающих препятствия. Поэтический мир каждого
демонстрирует индивидуальность и неповторимость личности, вступившей
в противоборство, из которого каждый, по-своему, вышел победителем.
Ахматова прожила долгую жизнь, в значительной мере реализовав свои творческие
возможности, обрела славу национального поэта и всемирное признание. Жизнь
Николая Гумилева была насильственно прервана на пороге качественно нового периода
творческого развития, а точнее взлета…
Можно найти много примеров сходства образов, мотивов, художественного видения
в творчестве двух поэтов, но влияние А. Ахматовой на свою жизнь – человека
и поэта – исчерпывающе определил сам Гумилев: «Ты научила меня верить в Бога
и любить Россию».
![]()
Кац Б.
Анна Ахматова и музыка: исслед. очерки / Б. Кац, Р. Тименчик.- Л.: Сов. композитор, 1989.- 336 с.: ил.
 Связав союзом «и» музыкальное искусство с именем поэта, мы получаем возможность говорить по крайней мере о трех темах: «музыка в жизни поэта», «музыка в творчестве поэта», «преломление творчества поэта в музыкальном искусстве».
Связав союзом «и» музыкальное искусство с именем поэта, мы получаем возможность говорить по крайней мере о трех темах: «музыка в жизни поэта», «музыка в творчестве поэта», «преломление творчества поэта в музыкальном искусстве».
Предлагаемая книга затрагивает все три названные темы, но в разной мере и разным образом, и тому есть определенные причины.
Достаточно вспомнить такие ахматовские строки, как:
И музыка со мной покой делила,
Сговорчивей нет в мире никого, -
или – о музыке же – из посвященного Д. Д. Шостаковичу стихотворения:
Она одна со мною говорит,
Когда другие подойти бояться, -
чтобы представить, сколь важное место отводила Ахматова музыке среди «всех впечатлений бытия».
![]()
Кормилов С. И.
Поэтическое творчество Анны Ахматовой: в помощь старшеклассникам, абитуриентам,
преподавателям / С. И. Кормилов. – 3-е изд. – М.: Изд-во МГУ; Самара: Изд-во
«Учебная литература», 2004.- 128 с. – (Перечитывая классику).
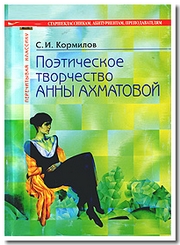 Поэзия Ахматовой являет собой небывалый синтез нежной
женственности и доходящей до героизма мужественности, тонкого чувства
и глубокой мысли, эмоциональной выразительности и редкой для лирика изобразительности
(наглядности, представимости образов), краткости и исключительной смысловой
емкости, предельной словесной точности и недоговоренности, предполагающей
широчайшие ассоциации, острого ощущения современности, «бега времени»,
постоянной памяти о прошлом (своем личном и общезначимом) и поистине
пророческого предвидения, неповторимо индивидуального и социального,
имеющего важнейшее значение для народа и всего человечества, национального
и приобщающего к мировой культуре, смелого новаторства и укорененности
в традициях. Такой многослойный синтез характеризует ахматовскую поэзию
как одно из вершинных явлений литературы ХХ века, который сделал возможным
соединение того, что прежде казалось несоединимым.
Поэзия Ахматовой являет собой небывалый синтез нежной
женственности и доходящей до героизма мужественности, тонкого чувства
и глубокой мысли, эмоциональной выразительности и редкой для лирика изобразительности
(наглядности, представимости образов), краткости и исключительной смысловой
емкости, предельной словесной точности и недоговоренности, предполагающей
широчайшие ассоциации, острого ощущения современности, «бега времени»,
постоянной памяти о прошлом (своем личном и общезначимом) и поистине
пророческого предвидения, неповторимо индивидуального и социального,
имеющего важнейшее значение для народа и всего человечества, национального
и приобщающего к мировой культуре, смелого новаторства и укорененности
в традициях. Такой многослойный синтез характеризует ахматовскую поэзию
как одно из вершинных явлений литературы ХХ века, который сделал возможным
соединение того, что прежде казалось несоединимым.
![]()
Малюкова Л. Н.
Анна Ахматова. Эпоха. Личность. Творчество. / Л. Н. Малюкова. – Таганрог: Изд-во
«Таганрогская правда», 1996. – 183 с.
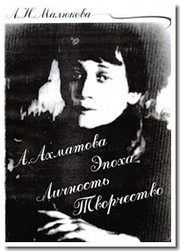 Большой поэт – всегда неизъяснимо влекущая тайна. В
нем, как в прекрасной сказке, есть все: и душа, и мысли, и сердце. Но
только сказки всегда имеют счастливый конец, судьба российского поэта
трагична… Устояли немногие. А. Ахматова была одной из них… Чем была жива
ее многострадальная душа? Как удалось сохранить свое личное «Я» и с достоинством
пронести его через жестокие годы тоталитарного режима? Ответы на все
эти вопросы – в ее поэзии. В ней ключ к личности А. Ахматовой и к сокровенным
тайнам ее поэтического мастерства.
Большой поэт – всегда неизъяснимо влекущая тайна. В
нем, как в прекрасной сказке, есть все: и душа, и мысли, и сердце. Но
только сказки всегда имеют счастливый конец, судьба российского поэта
трагична… Устояли немногие. А. Ахматова была одной из них… Чем была жива
ее многострадальная душа? Как удалось сохранить свое личное «Я» и с достоинством
пронести его через жестокие годы тоталитарного режима? Ответы на все
эти вопросы – в ее поэзии. В ней ключ к личности А. Ахматовой и к сокровенным
тайнам ее поэтического мастерства.
![]()
Павловский А. И. Анна Ахматова: жизнь и творчество / А. И. Павловский. – М.: Просвещение, 1991. – 192 с.: ил.
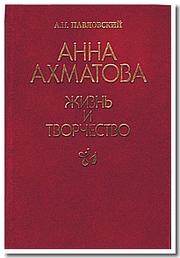 Если не стремиться обязательно определить все стороны
ахматовского творчества в разные периоды, а выделить самое основное,
то можно говорить о двух основных чертах, обрисовывающих ее характерный
облик. Это, во-первых, фрагментарность поэтической речи, которая для
нее характерна от «Вечера» до комаровских набросков. А во-вторых, стремление
– всегдашнее у Ахматовой – охватить мир в его огромности, целостности.
Такое сочетание – фрагмента душевной жизни личности и мирового контекста
– совершенно парадоксально, и вряд ли у кого из современников Ахматовой
оно было выражено с такой последовательностью и даже наглядностью.
Если не стремиться обязательно определить все стороны
ахматовского творчества в разные периоды, а выделить самое основное,
то можно говорить о двух основных чертах, обрисовывающих ее характерный
облик. Это, во-первых, фрагментарность поэтической речи, которая для
нее характерна от «Вечера» до комаровских набросков. А во-вторых, стремление
– всегдашнее у Ахматовой – охватить мир в его огромности, целостности.
Такое сочетание – фрагмента душевной жизни личности и мирового контекста
– совершенно парадоксально, и вряд ли у кого из современников Ахматовой
оно было выражено с такой последовательностью и даже наглядностью.
![]()
Петербургские сны Анны Ахматовой: «Поэма без героя»: (опыт реконструкции текста) / сост., вступ. ст., реконструкция текста и коммент. С.А. Коваленко. – СПб.: Росток, 2004. – 368 с.
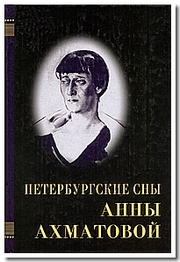 Над «Поэмой без героя» Ахматова работала около четверти
века. Началом ею обозначен конец 1940 года, а последний раз она обратилась
к тексту 19 апреля 1965 года, вписав в него новую строфу. Однако не эта,
точно обозначенная дата, является временем завершения работы над поэмой
как произведением целостным, уже готовым к суду читателя.
Над «Поэмой без героя» Ахматова работала около четверти
века. Началом ею обозначен конец 1940 года, а последний раз она обратилась
к тексту 19 апреля 1965 года, вписав в него новую строфу. Однако не эта,
точно обозначенная дата, является временем завершения работы над поэмой
как произведением целостным, уже готовым к суду читателя.
Датой завершения поэмы Ахматова назвала рубеж 1963 года, когда она вписала
в свой рабочий экземпляр потаенные строфы, заполнив до времени заменявшие их
«пустоты», отмеченные в тексте отточиями. Строфы эти она назвала «крамольными»,
в течение многих лет не доверяя их бумаге. Присутствовали они в ее сознании
и в памяти нескольких близких, доверенных лиц. Теперь акт свободного авторского
волеизъявления и стал временем завершения поэмы.
![]()
Служевская И.
Китежанка. Поэзия Ахматовой: тридцатые годы / Ирина Служевская. – М.: Новое
лит. обозрение, 2008. – 136 с.
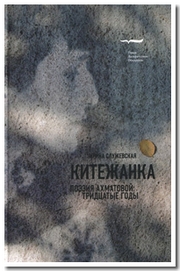 В судьбе Ахматовой 1925 год обладает особым статусом
не только потому, что судьбой этой впервые распорядилось постановление
ЦК, но и потому, что «Музой» и «Лотовой женой» (1924) закончился первый,
ранний этап ахматовской поэзии. Говоря о новом голосе и новом почерке,
появившихся спустя десятилетие, Ахматова, безусловно, права. Тридцатые
годы в ее поэтической судьбе – самое неожиданное, баснословное время.
В судьбе Ахматовой 1925 год обладает особым статусом
не только потому, что судьбой этой впервые распорядилось постановление
ЦК, но и потому, что «Музой» и «Лотовой женой» (1924) закончился первый,
ранний этап ахматовской поэзии. Говоря о новом голосе и новом почерке,
появившихся спустя десятилетие, Ахматова, безусловно, права. Тридцатые
годы в ее поэтической судьбе – самое неожиданное, баснословное время.
![]()
Хейт А.
Анна Ахматова: поэтическое странствие. Дневники, воспоминания, письма А. Ахматовой
/ Аманда Хейт; пер. с англ; предисл. А. Наймана. – М.: Радуга, 1991.- 383 с.
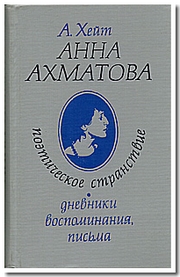 Жизнь и творчество Анны Ахматовой отражает рост ее понимания и самопознания.
Если бы на какой-то миг она потеряла способность превращать сырье своей жизни
в поэтическую биографию, то оказалась бы сломленной хаотичностью и трагедийностью
происходившего с ней. Триумфальное шествие в конце жизни по Европе – Таормина
и Оксфорд – было для Ахматовой не столько личной победой, сколько признанием
внутренней правоты поэта, которую отстаивала она и другие. И почести, которыми
осыпали ее на Сицилии и в Англии, воспринимались ею не только как личные
– они воздавались и тем, кто не дожил до этого, как Мандельштам и Гумилев.
Она принимала
их как поэт, познавший, что на самом деле значит быть русским поэтом в эпоху,
которую она называла «Настоящим Двадцатым Веком».
Жизнь и творчество Анны Ахматовой отражает рост ее понимания и самопознания.
Если бы на какой-то миг она потеряла способность превращать сырье своей жизни
в поэтическую биографию, то оказалась бы сломленной хаотичностью и трагедийностью
происходившего с ней. Триумфальное шествие в конце жизни по Европе – Таормина
и Оксфорд – было для Ахматовой не столько личной победой, сколько признанием
внутренней правоты поэта, которую отстаивала она и другие. И почести, которыми
осыпали ее на Сицилии и в Англии, воспринимались ею не только как личные
– они воздавались и тем, кто не дожил до этого, как Мандельштам и Гумилев.
Она принимала
их как поэт, познавший, что на самом деле значит быть русским поэтом в эпоху,
которую она называла «Настоящим Двадцатым Веком».
